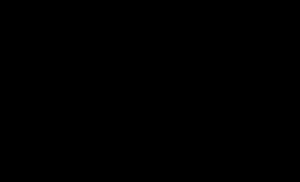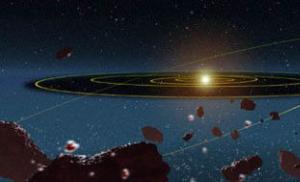Иван бунин - поздний час. Cочинение «Размышления над рассказом И
Рассказ И.А. Бунина «Поздний час» был закончен 19 октября 1939 года в Париже, он входит в сборник «Темные аллеи», в котором писатель исследует все аспекты любви, от возвышенных, прекрасных переживаний до проявления животной страсти-инстинкта.
В рассказе «Поздний час» герой Бунина мысленно переносится в Россию, будучи, по всей вероятности, на чужбине. Он пользуется «поздним часом», чтобы никто не мог нарушить столь дорогих сердцу эмигранта воспоминаний. Перейдя через мост, через реку, герой оказывается в городе, видимо, до боли ему знакомом, городе, в котором он провел свои детские и юношеские годы, где каждая улица, каждое строение и даже дерево вызывают у Данный текст предназначен только для частного использования - 2005 него целый шквал воспоминаний, но ничто, даже ностальгия по детству, так не важно для него, как память о той светлой и чистой любви, которую удалось ему испытать в этих местах, любви недолговечной, но крепкой и трогательной, трепетной, еще юношеской.
Любовь мгновенная и трагичная - такова концепция любви у Бунина, и «Поздний час» не стал исключением. Время бессильно убить подлинное чувство - в этом идея рассказа. Память вечна, забвение отступает перед силой любви.
«Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою - я тебе никогда не забуду этого тайного согласия» - так с невероятной силой вновь пережито и воссоздано мгновение, давно уже испытанное.
Но бытие жестоко. Любимая девушка умирает, и любовь заканчивается с ее смертью, но она не могла продолжаться дольше, потому что была настоящей - здесь опять всплывает бунинское понимание любви. Счастье - достояние немногих, но на долю героя Бунина выпало это «несказанное счастье», он его испытал, а потому и осталась теперь лишь эта лёгкая, светлая грусть и память... «Нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!» - провозглашает писатель в рассказе «Роза Иерихона», и этот основополагающий фактор философии Бунина, его мироощущения явился своего рода программой его творчества.
Жизнь и смерть... Их неотступное, великое противостояние - источник постоянного трагизма для бунинских героев. Для писателя свойственно обостренное чувство смерти и обостренное чувство жизни.
Быстротечность жизни удручает и героя Бунина: «Да и у меня все умерли; не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь, давно ли начинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось... так быстро и на моих глазах!» Но в этих словах не отчаяние, а глубокое понимание реальности процессов жизни, ее прехо-дящести. «Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле».
Бунин поет гимн светоносному, окрыляющему человека чувству - чувству, память о котором и благодарность за которое не исчезнет и со смертью; здесь проявляется благородство бунинского героя, и во весь рост перед нами встает прекрасный, все понимающий и все чувствующий, величественный душевный мир писателя и его героя.
Последнее место, куда переносится герой в своем воображении, - городское кладбище, где похоронена та, что так дорога его сердцу. Это было окончательной и, быть может, главной его целью, в которой ему тем не менее «было страшно признаться себе, но исполнение которой... было неминуемо». Но чем же вызван этот страх? Скорее всего, это боязнь столкнуться с действительностью, убедиться в том, что от прекрасного чувства остался только «длинный», «узкий» камень, одиноко лежащий «среди сухих трав», и воспоминания. Герой идет на кладбище с намерением «взглянуть и уйти уже навсегда», уйти из этого мира воспоминаний, возвратиться к действительности, к тому, что ему осталось.
Настроение героя в гармонии с природой. То он так же, как и окружающий его мир, безмятежен и спокоен, то так же грустен, как и все вокруг. Волнение героя отражает то «трепет листвы», то бой набата и «полотнища пламени».
Как лейтмотив, через все произведение проходит образ «зеленой звезды». Но что значит для героя эта звезда, «теплившаяся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившая» поначалу, и «немая, неподвижная» в конце рассказа? Что это? Воплощение ирреальности, зыбкости, чего-то недосягаемого или символ любви и восторга? А может, сама судьба?
Глубокий смысл содержит и само заглавие. Имеет ли писатель в виду только время действия или же запоздалость посещения родных мест? Возможно, и то, и другое. Бунин использует название рассказа как рефрен, неоднократно подчеркивая, что все, все события, к которым возвращается в памяти его герой, происходят именно «в поздний час».
Архитектоника рассказа совершенна и целостна, н постоянное изменение времени действия не разбивает целостности повествования. Все части произведения гармонично взаимосвязаны. Ярчайшей красоты язык в очередной раз является свидетельством необычайного таланта писателя. Самые привычные, обыкновенные слова невероятно выразительно сочетаются друг с другом.
Все творчество Бунина, светлое и жизнеутверждающее, полностью соответствует высказанной им однажды мысли: «От жизни человечества, от веков, поколений остается на деле только высокое, доброе и прекрасное, только это».
Иван Алексеевич Бунин
Поздний час
Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.
И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.
Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, – гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, – так молчалив он был, – хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовеет мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее, красное – русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою – я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила-архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья – и вот вдруг решился, взял, замирая, твою руку…
За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой.
В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально – печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел – большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени – только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару, – он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
ПОЗДНИЙ ЧАС
Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.
И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.
Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, - гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, - так молчалив он был, - хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовеет мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее и красное - русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою - я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила Архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья - и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку...
За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой.
В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально - печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел - большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени - только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару, - он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?
Цель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад; каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе - все так же казенно, скучно, как было когда-то, при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний - и не мог: да, входил в эти ворога сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?
Старая улица показалась мне только немного уже, чем казалась прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны запыленные купеческие дома, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти срединой улицы, в полном месячном свете... И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет яблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепла, что наслаждением было идти в одной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком... Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?
Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он, верно, не изменился, но тем страшнее увидать его. Какие-то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат - все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли; и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь; давно ли начинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, - так быстро и на моих глазах! И я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела... Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости...
Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет Божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, запуская колотушкой плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору и за сараем в глубине двора вошел в пестрый сумрак сада, где слабо белело вдали, на скамье под яблонями, твое платье, и, быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.
ПОЗДНИЙ ЧАС
Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня. И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи. Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, — гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, — так молчалив он был, — хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовеет мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее и красное — русские национальные флаги.
Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою — я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила-архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья — и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку...За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой.В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально — печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел — большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени — только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару, — он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?Цель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад; каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе — все так же казенно, скучно, как было когда-то, при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний — и не мог: да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?Старая улица показалась мне только немного уже, чем казалась прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны запыленные купеческие дома, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти срединой улицы, в полном месячном свете... И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет яблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепла, что наслаждением было идти в одной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком... Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он, верно, не изменился, но тем страшнее увидать его. Какие-то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат — все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли; и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь, давно ли начинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, — так быстро и на моих глазах! И я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела... Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости...Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, запуская колотушкой плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору и за сараем в глубине двора вошел в пестрый сумрак сада, где слабо белело вдали, на скамье под яблонями, твое платье, и, быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно, — лег где-нибудь на скамье и задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, я видел, как высоко и безгрешно сияет над двором месяц и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, видел заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из-за какого-то другого сада одинокую зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившую. Но и двор и звезду я видел только мельком — одно было в мире: легкий сумрак и лучистое мерцание твоих глаз в сумраке. А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал:— Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.Я вышел на середину светлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видел, что все еще белеет в калитке.Теперь, поднявшись с тумбы, я пошел назад тем же путем, каким пришел. Нет, у меня была, кроме Старой улицы, и другая цель, в которой мне было страшно признаться себе, но исполнение которой, я знал, было неминуемо. И я пошел — взглянуть и уйти уже навсегда.Дорога была опять знакома. Все прямо, потом влево, по базару, а с базара — по Монастырской — к выезду из города.Базар как бы другой город в городе. Очень пахучие ряды. В Обжорном ряду, под навесами над длинными столами и скамьями, сумрачно. В Скобяном висит на цепи над срединой прохода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В Мучном по утрам всегда бегали, клевали по мостовой целой стаей голуби. Идешь в гимназию — сколько их! И все толстые, с радужными зобами — клюют и бегут, женственно, щёпотко виляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замечая тебя: взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупные темные крысы, гадкие и страшные.Монастырская улица — пролет в поля и дорога: одним из города домой, в деревню, другим — в город мертвых. В Париже двое суток выделяется дом номер такой-то на такой-то улице изо всех прочих домов чумной бутафорией подъезда, его траурного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столика лист бумаги в траурной кайме — на нем расписываются в знак сочувствия вежливые посетители; потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная, с траурным балдахином, колесница, дерево которой черно-смолисто, как чумной гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватыми черными султанами — перьями страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых попонах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах сидит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутафорский гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ухмыляющийся на эти торжественные слова: Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis . — Тут все другое. Дует с полей по Монастырской ветерок, и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым венчиком на лбу, над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и ее.На выезде, слева от шоссе, монастырь времен царя Алексея Михайловича, крепостные, всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы собора. Дальше, совсем в поле, очень пространный квадрат других стен, но невысоких: в них заключена целая роща, разбитая пересекающимися долгими проспектами, по сторонам которых, под старыми вязами, липами и березами, все усеяно разнообразными крестами и памятниками. Тут ворота были раскрыты настежь, и я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я несмело снял шляпу и вошел. Как поздно и как немо! Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых, крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу — светлые и темные пятна, всё пестрившие под деревьями, спали. В дали рощи, из-за кладбищенской церкви, вдруг что-то мелькнуло и с бешеной быстротой, темным клубком понеслось на меня — я, вне себя, шарахнулся в сторону, вся голова у меня сразу оледенела и стянулась, сердце рванулось и замерло... Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, неся его в себе, как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо идти, я шел все прямо по проспекту — и в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился: передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная.
Сегодня мы проанализируем рассказ «Поздний час» написанный в 1938 году И.А. Буниным. Именно в этот период, писатель проживал на чужбине, и безумно скучал по родине. Всю свою тоску и ностальгию за Россией, он передал именно в данном рассказе.
Рассказ идет о пожилом мужчине, который уже внушительное время живет за границей, и как он встретился со своим прошлым. Ему предстоит повстречать свою бывшую любовь, и прежнюю родину. Эта встреча пропитана болью и тоской, за былой страной в которой ему было так хорошо. Нет на свете и любимой, которая ушла так рано, и безвозвратно минула молодость.
Все время герой отчаянно хочет найти счастье и вернуть потерянное им рай. Но уже поздно ничто не вернешь назад.
Весь рассказ посвящен одной июльской прогулке, которая состоялась в ночи. Он не спеша прогуливается по дорогим сердцу местам, и его переполняют различные воспоминания из прошлого. Но после все перемешалось, прошлое и настоящее смешалось в единое целое. Хотя этого и следовало ожидать, ведь вся его жизнь состоит из воспоминаний о его любимой.
Конечно главным в жизни является именно любовь. Это она осчастливила его, а позже сделала одним из несчастнейших на земле.
Герой то и дело вспоминает дорогие сердцу моменты. Первое прикосновение, самая первая встреча, полу объятья всем этим он живет. Каждый день он прокручивает в своих мыслях ее образ.
В голове героя полный кавардак, то он вспоминает ее темные волосы и ее нежно-белое платье. Затем он переплетает их с памятными местами своего родного города. Окунаясь в свою молодость, где так же бушевала буря эмоций. Все время он сопоставляет дела минувших дней и то, что видит сейчас. И как ни странно связывает все с Парижем, в котором сейчас проживает.
Почему-то ему кажется, что в Париже все не так. Герою ближе его родина и он чрезмерно тоскует. Он весь целиком и душой и мыслями русский человек. Все что он видел перед собой, тот же базар и старую улицу и составляло его жизнь. Он и сам осознает и с грустью понимает что жизнь прошла.
В самом конце мужчина приходит в самое важное место на кладбище к ней. Что выглядит очень символично, ведь посетил он кладбище в позднее время. Все идет к завершению и его пути хотя сам он давно умер вместе с ней.
Возможно такое завершение рассказа шло от размышлений Бунина о быстротечности нашей жизни. Никто не избежит кончины. У каждого наступает этот «поздний час» который так ярко выражен в рассказе. И мы можем только сопереживать автору и осознать, что сама суть жизни - это любовь.
Несколько интересных сочинений
- Образ и характеристика Татьяны Лариной в романе Евгений Онегин Пушкина сочинение
В своем романе «Евгений Онегин» А.С.Пушкин воссоздал все представления об идеальной русской девушке, создав образ Татьяны, которая была его любимой героиней.
- Сочинение Римский в романе Мастер и Маргарита Булгакова
В московских главах романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» финдиректор московского Варьете Римский Григорий Данилович представлен в ряду второстепенных персонажей
- Анализ рассказа Бедные люди Толстого (произведения)
В произведении «Бедные люди» Лев Николаевич Толстой показывает, что человек даже в самой трудной жизненной ситуации остается добрым и имеет сострадание к другим людям.
Все времена года хороши по-своему. Но зима, на мой взгляд, самое удивительное, волшебное время года. Зимой природа засыпает и вместе с тем преображается.
Безусловно, ещё со старых времен труд в жизни каждого человека занимает особую нишу. Без труда не может полноценно жить и развиваться ни один человек. Лишь находясь постоянно в труде мы можем научиться чему-то новому, познать неизведанное