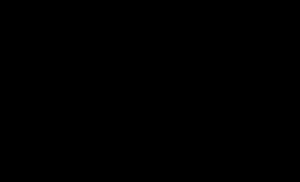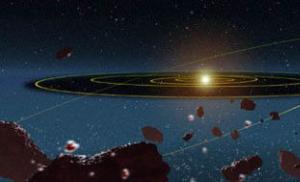Владимир короленко - история моего современника. Автобиографическое произведение «История моего современника» В
Короленко Миронов Георгий Михайлович
«История моего современника»
«История моего современника»
Хатки - небольшая деревенька на берегу Пела, в нескольких верстах от большого села Великие Сорочинцы и верстах в двадцати от Миргорода. Здесь, на горе, над рекой купил Владимир Галактионович в 1903 году усадебку в полдесятины с колодцем и садом.
К лету 1905 года на месте развалившейся хатенки был построен небольшой дом. Здесь, в рабочей комнатке, в мезонине с чудесным видом на пойменные луга и рощи, на извилистую серебряную ленту Пела, Короленко в конце лета начал писать «Историю моего современника».
Часто, особенно в первый период работы, когда он еще не был вовлечен в мощный поток воспоминаний, Короленко откладывал перо и надолго задумывался. Какие цели он ставит перед своей работой, что должен найти в ней читатель?
Ему уже пошел шестой десяток. Прожито полстолетия, и теперь он (если употребить образное выражение Гёте) оглядывается назад, на дымный и туманный путь. Сделать это было давней его мечтой, одной из важнейших литературных задач жизни. Долго он не мог приступить к ней - было трудно оторваться от непосредственных ощущений настоящего, оглянуться на прошлое спокойным взглядом бытописателя, осмыслить нынешнее и минувшее в их взаимной органической связи.
Нелегко быть бесстрастным описателем событий, бывших сорок лет назад - в первые годы после «освобождения» сознавая, что ныне, отделенная от того времени четырьмя десятками лет, Россия переживает последние годы перед освобождением. «А на что ушли эти сорок лет?» - может спросить читатель. Как объяснить все это ему, оглушенному бурным грохотом грозных дней, современнику, очевидцу, участнику Порт-Артурской эпопеи, или десятидневного существования матросской республики на броненосце «Потемкин», или побоища в Цусимском проливе, - как, привлечь его к тихим движениям детской мысли, как показать переход от этих мыслей к событиям и мотивам, тесно и неразрывно связанным с важнейшими вопросами современности?..
Он хочет написать не историю своего времени, а только историю одной жизни в это время. Эта книга не биография, он не станет особенно заботиться о полноте биографических сведений; эта книга не исповедь - он не верит ни в возможность, ни в полезность публичной исповеди. В своей работе он будет стремиться к возможно полной исторической правде.
В его записках не будет ничего, что ему не встречалось в действительности, чего он не испытывал, не чувствовал, не видел. И все же - он не будет пытаться дать собственный портрет: читатель найдет здесь только черты из «истории современника», человека, известного ему ближе всех остальных людей его времени.
Нет никакого сомнения, что корни современных революционных бурь ушли далеко в прошлое - в 60-е, 70-е и последующие годы. Он попытается вызвать в памяти и оживить ряд картин прошлого полустолетия. Теперь многое из того, о чем мечтало и за что боролось его поколение, - появилось на арене общественной жизни. Многие эпизоды из его ссыльных скитаний, события, встречи, мысли и чувства людей того времени и той борьбы не потеряли интереса и теперь. И сейчас жизнь колеблется и вздрагивает от острых столкновений новых начал с отжившими. Он надеется, хоть отчасти, осветить некоторые элементы этой борьбы.
Короленко работал со все большим увлечением, - до последних чисел сентября, пока бурные события бурного года надолго не оторвали его от воспоминаний.
Из книги Тургенев автора Лебедев Юрий ВладимировичВ кругу «Современника» «Семена, посеянные Гоголем, - мы в этом уверены, - безмолвно зреют теперь во многих умах, во многих дарованиях; придет время - и молодой лесок вырастет около одинокого дуба», - писал Тургенев в 1846 году. К этому времени вокруг В. Г. Белинского
Из книги Валентин Гафт: ...Я постепенно познаю... автора Гройсман Яков Иосифович Из книги Воспоминания современников о Н. В. Гоголе автора Гоголь Николай ВасильевичС. Т. АКСАКОВ ИСТОРИЯ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ ВСТУПЛЕНИЕ«История знакомства моего с Гоголем», еще вполне не оконченная мною, писана была не для печати, или, по крайней мере, для печати по прошествии многих десятков лет, когда уже никого из выведенных в ней лиц давно не
Из книги Николай Добролюбов. Его жизнь и литературная деятельность автора Скабичевский Александр МихайловичГлава IV Материальные заботы и хлопоты по окончании курса института. – Вступление в число членов редакции «Современника». – Отсутствие самомнения и скромность Добролюбова. – Любовные неудачи. – Жизнь при редакции «Современника» (1858–1860). – Неусыпное трудолюбие. –
Из книги Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков автора Болотов Андрей ТимофеевичИСТОРИЯ МОЕГО МЛАДЕНЧЕСТВА ПИСЬМО 4-е Любезный приятель! Вот теперь дошел я и до собственной своей истории. Я начну оную с самого дня рождения, дня достопамятного в моей истории и ознаменованного одним редким и примечания достойным происшествием. Однако надобно
Из книги …Я постепенно познаю… автора Гафт Валентин ИосифовичЧасть вторая ИСТОРИЯ МОЕГО МАЛОЛЕТСТВА С 1750 ДО 1755 ГОДА Писано в 1789
Из книги Над пропастью во сне: Мой отец Дж. Д. Сэлинджер автора Сэлинджер Маргарет АМОЛОДЕЖЬ «СОВРЕМЕННИКА» Нет ничего дешевле и дороже, Чем эта группа нашей
Из книги Дневники автора Гиппиус Зинаида НиколаевнаЧасть первая История семьи (1900–1955) «Что делали мои родители до моего рождения» Четыре серые стены, четыре серых башни На луг взирают вешний. И горько безутешна Шалота госпожа. И дни, и ночи напролет Она узор волшебный ткет, А тихий голос ей поет: Беда, коль взор твой
Из книги Книги в моей жизни автора Миллер ГенриИстория моего Дневника «Черная книжка» - лишь сотая часть моего «Петербургского Дневника», моей записи, которую я вела почти непрерывно, со дня объявления войны. Я скажу далее, какая судьба постигла две толстые книги этой записи, доведенной до февраля-марта 1919 года.
Из книги Красные фонари автора Гафт Валентин Иосифович Из книги Рассказы автора Листенгартен Владимир АбрамовичМолодежь «Современника» Нет ничего дешевле и дороже, Чем эта группа нашей
Из книги Страницы моей жизни автора Кроль Моисей АароновичИстория моего деда и его семьи Мой дед со стороны матери был купцом I гильдии. В Царской России это было очень важно для еврея, так как давало возможность проживать и, в частности, заниматься коммерцией за пределами «зоны оседлости». Жил он с семьей в Бухаре. Звали его
Из книги О Сталине без истерик автора Медведев Феликс НиколаевичГлава 40. Иркутская повременная печать в годы войны. Мое участие в избирательной кампании в Четвертую Государственную думу. История одного моего доклада о «народных университетских курсах». Уход Князева с поста иркутского генерал-губернатора и назначение на его место
Из книги Катенька автора Гаркалин Валерий БорисовичГлава 13. Письмо моего деда Золтана Партоша Иосифу Сталину: «О, вождь мой, возьми в руки будущее моего народа!» О своем деде – венгерском революционере, детском враче, поэте Золтане Партоше и его судьбе после приезда в 1922 году из Венгрии в Советскую Россию я написал в книге
Из книги Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. Том 2 автора Кулиш Пантелеймон АлександровичИстория моего пития На Белорусской киностудии режиссёр Леонид Белозорович начал снимать сериал «Белые одежды» по культовой в то время одноимённой книге Владимира Дудинцева. Мне предложили главную роль биолога Фёдора Ивановича Дёжкина. Я был вне себе от радости, которая
-------
| сайт collection
|-------
| Владимир Галактионович Короленко
| История моего современника
-------
В. Г. Короленко. Собрание сочинений в десяти томах.
Том пятый. История моего современника М., ГИХЛ, 1954
Подготовка текста и примечаний С. В. Короленко
OCR Ловецкая Т. Ю.
В этой книге я пытаюсь вызвать в памяти и оживить ряд картин прошлого полустолетия, как они отражались в душе сначала ребенка, потом юноши, потом взрослого человека. Раннее детство и первые годы моей юности совпали с временем освобождения. Середина жизни протекла в период темной, сначала правительственной, а потом и общественной реакции и среди первых движений борьбы. Теперь я вижу многое из того, о чем мечтало и за что боролось мое поколение, врывающимся на арену жизни тревожно и бурно. Думаю, что многие эпизоды из времен моих ссыльных скитаний, события, встречи, мысли и чувства людей того времени и той среды не потеряли и теперь интереса самой живой действительности. Мне хочется думать, что они сохранят еще свое значение и для будущего. Наша жизнь колеблется и вздрагивает от острых столкновений новых начал с отжившими, и я надеюсь хоть отчасти осветить некоторые элементы этой борьбы.
Но ранее мне хотелось привлечь внимание читателей к первым движениям зарождающегося и растущего сознания. Я понимал, что мне будет трудно сосредоточиться на этих далеких воспоминаниях под грохот настоящего, в котором слышатся раскаты надвигающейся грозы, но я не представлял себе, до какой степени это будет трудно.
Я пишу не историю моего времени, а только историю одной жизни в это время, и мне хочется, чтобы читатель ознакомился предварительно с той призмой, в которой оно отражалось… А это возможно лишь в последовательном рассказе. Детство и юность составляют содержание этой первой части.
Еще одно замечание. Эти записки не биография, потому что я не особенно заботился о полноте биографических сведений; не исповедь, потому что я не верю ни в возможность, ни в полезность публичной исповеди; не портрет, потому что трудно рисовать собственный портрет с ручательством за сходство. Всякое отражение отличается от действительности уже тем, что оно отражение; отражение заведомо неполное – тем более. Оно всегда, если можно так выразиться, гуще отражает избранные мотивы, а потому часто, при всей правдивости, привлекательнее, интереснее и, пожалуй, чище действительности.
В своей работе я стремился к возможно полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной. Здесь не будет ничего, что мне не встречалось в действительности, чего я не испытал, не чувствовал, не видел.
И все же повторяю: я не пытаюсь дать собственный портрет. Здесь читатель найдет только черты из «истории моего современника», человека, известного мне ближе всех остальных людей моего времени…
Я помню себя рано, но первые мои впечатления разрознены, точно ярко освещенные островки среди бесцветной пустоты и тумана.
Самое раннее из этих воспоминаний – сильное зрительное впечатление пожара. Мне мог идти тогда второй год , но я совершенно ясно вижу и теперь языки пламени над крышей сарая во дворе, странно освещенные среди ночи стены большого каменного дома и его отсвечивающие пламенем окна. Помню себя, тепло закутанного, на чьих-то руках, среди кучки людей, стоявших на крыльце. Из этой неопределенной толпы память выделяет присутствие матери, между тем как отец, хромой, опираясь на палку, подымается по лестнице каменного дома во дворе напротив, и мне кажется, что он идет в огонь. Но это меня не пугает. Меня очень занимают мелькающие, как головешки, по двору каски пожарных, потом одна пожарная бочка у ворот и входящий в ворота гимназист с укороченной ногой и высоким наставным каблуком. Ни страха, ни тревоги я, кажется, не испытывал, связи явлений не устанавливал. В мои глаза в первый еще раз в жизни попадало столько огня, пожарные каски и гимназист с короткой ногой, и я внимательно рассматривал все эти предметы на глубоком фоне ночной тьмы. Звуков я при этом не помню: вся картина только безмолвно переливает в памяти плавучими отсветами багрового пламени.
Вспоминаю, затем, несколько совершенно незначительных случаев, когда меня держат на руках, унимают мои слезы или забавляют. Мне кажется, что я вспоминаю, но очень смутно, свои первые шаги… Голова у меня в детстве была большая, и при падениях я часто стукался ею об пол. Один раз это было на лестнице. Мне было очень больно, и я громко плакал, пока отец не утешил меня особым приемом. Он побил палкой ступеньку лестницы, и это доставило мне удовлетворение. Вероятно, я был тогда в периоде фетишизма и предполагал в деревянной доске злую и враждебную волю. И вот ее бьют за меня, а она даже не может уйти… Разумеется, эти слова очень грубо переводят тогдашние мои ощущения, но доску и как будто выражение ее покорности под ударами вспоминаю ясно.
Впоследствии то же ощущение повторилось в более сложном виде. Я был уже несколько больше. Был необыкновенно светлый и теплый лунный вечер. Это вообще первый вечер, который я запомнил в своей жизни. Родители куда-то уехали, братья, должно быть, спали, нянька ушла на кухню, и я остался с одним только лакеем, носившим неблагозвучное прозвище Гандыло. Дверь из передней на двор была открыта, и в нее откуда-то, из озаренной луною дали, неслось рокотание колес по мощеной улице. И рокотание колес я тоже в первый раз выделил в своем сознании как особое явление, и в первый же раз я не спал так долго… Мне было страшно, – вероятно, днем рассказывали о ворах. Мне показалось, что наш двор при лунном свете очень странный и что в открытую дверь со двора непременно войдет «вор». Я как будто знал, что вор – человек, но вместе он представлялся мне и не совсем человеком, а каким-то человекообразным таинственным существом, которое сделает мне зло уже одним своим внезапным появлением. От этого я вдруг громко заплакал.
Не знаю уж по какой логике, – но лакей Гандыло опять принес отцовскую палку и вывел меня на крыльцо, где я, – быть может, по связи с прежним эпизодом такого же рода, – стал крепко бить ступеньку лестницы. И на этот раз это опять доставило удовлетворение; трусость моя прошла настолько, что еще раза два я бесстрашно выходил наружу уже один, без Гандыла, и опять колотил на лестнице воображаемого вора, упиваясь своеобразным ощущением своей храбрости. На следующее утро я с увлечением рассказывал матери, что вчера, когда ее не было, к нам приходил вор, которого мы с Гандылом крепко побили. Мать снисходительно поддакивала. Я знал, что никакого вора не было и что мать это знает. Но я очень любил мать в эту минуту за то, что она мне не противоречит. Мне было бы тяжело отказаться от того воображаемого существа, которого я сначала боялся, а потом положительно «чувствовал», при странном лунном сиянии, между моей палкой и ступенькой лестницы. Это не была зрительная галлюцинация, но было какое-то упоение от своей победы над страхом…
Еще стоит островком в моей памяти путешествие в Кишинев к деду с отцовской стороны… Из этого путешествия я помню переправу через реку (кажется, Прут), когда наша коляска была установлена на плоту и, плавно колыхаясь, отделилась от берега, или берег отделился от нее, – я этого еще не различал. В то же время переправлялся через реку отряд солдат, причем, мне помнится, солдаты плыли по двое и по трое на маленьких квадратных плотиках, чего, кажется, при переправах войск не бывает… Я с любопытством смотрел на них, а они смотрели в нашу коляску и говорили что-то мне непонятное… Кажется, эта переправа была в связи с севастопольской войной…
В тот же вечер, вскоре после переезда через реку, я испытал первое чувство резкого разочарования и обиды… Внутри просторной дорожной коляски было темно. Я сидел у кого-то на руках впереди, и вдруг мое внимание привлекла красноватая точка, то вспыхивавшая, то угасавшая в углу, в том месте, где сидел отец. Я стал смеяться и потянулся к ней. Мать говорила что-то предостерегающее, но мне так хотелось ближе ознакомиться с интересным предметом или существом, что я заплакал. Тогда отец подвинул ко мне маленькую красную звездочку, ласково притаившуюся под пеплом. Я потянулся к ней указательным пальцем правой руки; некоторое время она не давалась, но потом вдруг вспыхнула ярче, и меня внезапно обжег резкий укус. Думаю, что по силе впечатления теперь этому могло бы равняться разве крепкое и неожиданное укушение ядовитой змеи, притаившейся, например, в букете цветов. Огонек казался мне сознательно хитрым и злым. Через два – три года, когда мне вспомнился этот эпизод, я прибежал к матери, стал рассказывать и заплакал. Это были опять слезы обиды…
Подобное же разочарование вызвало во мне первое купание. Река произвела на меня чарующее впечатление: мне были новы, странны и прекрасны мелкие зеленоватые волны зыби, врывавшиеся под стенки купальни, и то, как они играли блестками, осколками небесной синевы и яркими кусочками как будто изломанной купальни. Все это казалось мне весело, живо, бодро, привлекательно и дружелюбно, и я упрашивал мать поскорее внести меня в воду. И вдруг – неожиданное и резкое впечатление не то холода, не то ожога… Я громко заплакал и так забился на руках у матери, что она чуть меня не выронила. Купание мое на этот раз так и не состоялось. Пока мать плескалась в воде с непонятным для меня наслаждением, я сидел на скамье, надувшись, глядел на лукавую зыбь, продолжавшую играть так же заманчиво осколками неба и купальни, и сердился… На кого? Кажется, на реку.
Это были первые разочарования: я кидался навстречу природе с доверием незнания, она отвечала стихийным бесстрастием, которое мне казалось сознательно враждебным…
Еще одно из тех первичных ощущений, когда явление природы впервые остается в сознании выделенным из остального мира, как особое и резко законченное, с основными его свойствами. Это – воспоминание о первой прогулке в сосновом бору. Здесь меня положительно заворожил протяжный шум лесных верхушек, и я остановился, как вкопанный, на дорожке. Этого никто не заметил, и все наше общество пошло дальше. Дорожка в нескольких саженях впереди круто опускалась книзу, и я глядел, как на этом изломе исчезали сначала ноги, потом туловища, потом головы нашей компании. Я ждал с жутким чувством, когда исчезнет последней ярко – белая шляпа дяди Генриха , самого высокого из братьев моей матери, и, наконец, остался один… Я, кажется, чувствовал, что «один в лесу» – это, в сущности, страшно, но, как заколдованный, не мог ни двинуться, ни произнести звука и только слушал то тихий свист, то звон, то смутный говор и вздохи леса, сливавшиеся в протяжную, глубокую, нескончаемую и осмысленную гармонию, в которой улавливались одновременно и общий гул, и отдельные голоса живых гигантов, и колыхания, и тихие поскрипывания красных стволов… Все это как бы проникало в меня захватывающей могучей волной… Я переставал чувствовать себя отдельно от этого моря жизни, и это было так сильно, что, когда меня хватились и брат матери вернулся за мной, то я стоял на том же месте и не откликался… Подходившего ко мне дядю, в светлом костюме и соломенной шляпе, я видел точно чужого, незнакомого человека во сне…
Впоследствии и эта минута часто вставала в моей душе, особенно в часы усталости, как первообраз глубокого, но живого покоя… Природа ласково манила ребенка в начале его жизни своей нескончаемой, непонятной тайной, как будто обещая где-то в бесконечности глубину познания и блаженство разгадки…
Как, однако, грубо наши слова выражают наши ощущения… В душе есть тоже много непонятного говора, который не выразить грубыми словами, как и речи природы… И это именно то, где душа и природа составляют одно…
Все это разрозненные, отдельные впечатления полусознательного существования, не связанные как будто ничем, кроме личного ощущения. Последним из них является переезд на новую квартиру… И даже не переезд (его я не помню, как не помню и прежней квартиры), а опять первое впечатление от «нового дома», от «нового двора и сада». Все это показалось мне новым миром, но странно: затем это воспоминание выпадает из моей памяти. Я вспомнил о нем только уже через несколько лет, и когда вспомнил, то даже удивился, так как мне представлялось в то время, что мы жили в этом доме вечно и что вообще в мире никаких крупных перемен не бывает. Основным фоном моих впечатлений за несколько детских лет является бессознательная уверенность в полной законченности и неизменяемости всего, что меня окружало. Если бы я имел ясное понятие о творении, то, вероятно, сказал бы тогда, что мой отец (которого я знал хромым) так и был создан с палкой в руке, что бабушку бог сотворил именно бабушкой, что мать моя всегда была такая же красивая голубоглазая женщина с русой косой, что даже сарай за домом так и явился на свет покосившимся и с зелеными лишаями на крыше. Это было тихое, устойчивое нарастание жизненных сил, плавно уносившее меня вместе с окружающим мирком, а берега стороннего необъятного мира, по которым можно было бы заметить движение, мне тогда не были видны… И сам я, казалось, всегда был таким же мальчиком с большой головой, причем старший брат был несколько выше меня, а младший ниже… И эти взаимные отношения должны были остаться навсегда… Мы говорили иной раз: «когда мы будем большими», или: «когда мы умрем», но это была глупая фраза, пустая, без живого содержания…
Однажды утром мой младший брат, который и засыпал, и вставал раньше меня, подошел к моей постели и сказал с особенным выражением в голосе:
– Вставай, скорей… Что я тебе покажу!
– Что такое?
– Увидишь. Скорей, я ждать не стану.
И он опять ушел на двор с видом серьезного человека, не желающего терять время. Я торопливо оделся и вышел за ним. Оказалось, что какие-то незнакомые нам мужики совершенно разрушили наше парадное крыльцо. От него оставалась куча досок и разной деревянной гнили, а выходная дверь странным образом висела высоко над землей. А главное – под дверью зияла глубокая рана из облупленной штукатурки, темных бревен и свай… Впечатление было резко, отчасти болезненно, но еще более поразительно. Брат стоял неподвижно, глубоко заинтересованный, и провожал глазами каждое движение плотников. Я присоединился к его безмолвному созерцанию, а вскоре к нам обоим присоединилась и сестра . И так мы простояли долго, ничего не говоря и не двигаясь. Дня через три – четыре новое крыльцо было готово на месте старого, и мне положительно казалось, что физиономия нашего дома совершенно изменилась. Новое крыльцо было явно «приставлено», тогда как старое казалось органической частью нашего почтенного цельного дома, как нос или брови у человека.
А главное – в душе отложилось первое впечатление «изнанки» и того, что под этой гладко выстроганной и закрашенной поверхностью скрыты сырые, изъеденные гнилью сваи и зияющие пустоты…
По семейному преданию, род наш шел от какого-то миргородского казачьего полковника , получившего от польских королей гербовое дворянство. После смерти моего деда отец, ездивший на похороны, привез затейливую печать, на которой была изображена ладья с двумя собачьими головами на носу и корме и с зубчатой башней посредине. Когда однажды мы, дети, спросили, что это такое, то отец ответил, что это наш «герб» и что мы имеем право припечатывать им свои письма, тогда как другие люди этого права не имеют. Называется эта штука по – польски довольно странно: «Korabl i Lodzia» (ковчег и ладья), но какой это имеет смысл, сам отец объяснить нам не может; пожалуй, и никакого смысла не имеет… А вот есть еще герб, так тот называется проще: «pchła na bęnbenku hopki tnie» , и имеет более смысла, потому что казаков и шляхту в походах сильно кусали блохи… И, взяв карандаш, он живо набросал на бумаге блоху, отплясывающую на барабане, окружив ее щитом, мечом и всеми гербовыми атрибутами. Рисовал он порядочно, и мы смеялись. Таким образом, к первому же представлению о наших дворянских «клейнодах» отец присоединил оттенок насмешки, и мне кажется, что это у него было сознательно. Мой прадед, по словам отца, был полковым писарем, дед – русским чиновником, как и отец. Крепостными душами и землями они, кажется, никогда не владели… Восстановить свои потомственно – дворянские права отец никогда не стремился, и, когда он умер, мы оказались «сыновьями надворного советника», с правами беспоместного служилого дворянства, без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, и с какой бы то ни было другой.
Образ отца сохранился в моей памяти совершенно ясно: человек среднего роста, с легкой наклонностью к полноте. Как чиновник того времени, он тщательно брился; черты его лица были тонки и красивы: орлиный нос, большие карие глаза и губы с сильно изогнутыми верхними линиями . Говорили, что в молодости он был похож на Наполеона Первого, особенно когда надевал по – наполеоновски чиновничью треуголку. Но мне трудно было представить Наполеона хромым, а отец всегда ходил с палкой и слегка волочил левую ногу…
На лице его постоянно было выражение какой-то затаенной печали и заботы. Лишь изредка оно прояснялось. Иной раз он собирал нас к себе в кабинет, позволял играть и ползать по себе, рисовал картинки, рассказывал смешные анекдоты и сказки. Вероятно, в душе этого человека был большой запас благодушия и смеха: даже своим поучениям он придавал полуюмористическую форму, и мы в эти минуты его очень любили. Но эти проблески становились с годами все реже, природная веселость все гуще задергивалась меланхолией и заботой. Под конец его хватало уже лишь на то, чтобы дотягивать кое-как наше воспитание, и в более сознательные годы у нас уже не было с отцом никакой внутренней близости… Так он и сошел в могилу, мало знакомый нам, его детям. И только долго спустя, когда миновали годы юношеской беззаботности, я собрал черта за чертой, что мог, о его жизни, и образ этого глубоко несчастного человека ожил в моей душе – и более дорогой, и более знакомый, чем прежде.
Еще в середине 1890-х годов Короленко замышлял, вместе со своим ближайшим другом и соредактором по «Русскому богатству» Н.ФАнненским, мемуарно-публицистическую книгу «Десять лет в провинции», которая еще не была связана с историей целого поколения 1870-х годов. Эпический замысел обозначился осенью 1896 г. в переписке Короленко с П.Ф.Якубовичем. Последний прислал из курганской ссылки в редакцию «Русского богатства» повесть «Юность» и высказал свою мечту о «романе нашего времени». Короленко в ответном письме поддержал замысел «нашего романа», который «разыгрывался с большей или меньшей интенсивностью среди целого поколения», когда «сцену заполняло деятельное народничество», и эпилогом которого служат «места отдаленные». Он полагал, однако, что на пути к такому роману стоят не только неодолимые внешние препятствия в виде цензуры: мы «сами еще не можем посмотреть назад с достаточным спокойствием и <...> "объективностью"». Якубович, в свою очередь, выразил надежду, что человеком, который сумеет «справиться со всеми трудностями», будет сам Короленко: «Вы, именно Вы напишете все-таки "наш роман"».
В 1905 г., когда цензурный климат значительно смягчился, Короленко приступил к художественной летописи своего поколения. «Хотел было, отдавая дань злобе дня, начать с ссылки»,— писал он брату, но поборол искушение и начал с детства. Однако «первым впечатлением бытия» оказался пожар: «отсветы багрового пламени» «на глубоком фоне ночной тьмы». Картина, перекликающаяся с русской действительностью «пылающего года».
В стремлении определить жанр своего произведения Короленко прибегал к различным формулам: работа «почти беллетристическая, а не сухие воспоминания», «жизненные впечатления», «освещаемые воспоминаниями», но не биография, не «публичная исповедь», не «собственный портрет», в то же время, история одной жизни, где «исторической правде» отдано предпочтение перед «правдой художественной» . В конце концов, «История моего современника» вобрала в себя все основные начала творчества Короленко — художественно-изобразительное, мемуарное, лирическое, очерковое и публицистическое. При этом вес двух последних элементов постепенно возрастал, что соответствовало и общему направлению писательского пути.
Изображая высокий духовный облик своего современника, Короленко делится с читателем многими тревогами и сомнениями. В 1916 г. он назвал «молодую и горячую» пору своего народничества «сокрушенным пепелищем недавних еще упований»: «После того старого резкого опыта я скептически отношусь к "готовым формулам"», будь то формула «народной» или «классовой» мудрости. Он избрал для себя «партизанскую линию» действия «от собственного ума».
Поколение I860—1870-х годов, которое Короленко назвал «своим», вышло на историческую арену с «кипучим вином отрицания» в голове, со склонностью действовать «очень радикально и очень наивно», разделываясь со всяким «старьем» методом «Пы-башке и к чорту!» Ко всякого рода «нигилистам» и «ниспровергателям» Короленко относился отчужденно, полагая, что новое может вводиться лишь в том случае, когда оно основано на более высоком нравственном принципе.
Однако и в жизни «нигилистического поколения» Короленко подслушал мотив исчерпанности отрицания, усталости от вражды, уловил стремление молодых к «чему-нибудь, что могло примирить с жизнью — если не с действительностью, так хоть с ее возможностями».
Самый краткий и самый емкий отзыв об «Истории моего современника» принадлежит А.В.Амфитеатрову: «Благоухающая книга!» История приготовила короленковскому поколению жестокий эпилог: «диктатура штыка», как определил писатель в последние годы жизни, «сразу подвинула нас на столетия назад», превзойдя «самые безумные мечты царских ретроградов».
Много лет прошло с тех пор, как читатель первого тома «Истории моего современника» расстался с его героем, и много событий залегло между этим новым прошлым и настоящим. В этом отдалении от предмета рассказа есть свои неудобства, но есть также и хорошие стороны. В туманных далях исчезает, быть может, много подробностей, которые когда-то выступали на первый план, в более близкой перспективе. Но зато самая перспектива расширяется. То, что сохраняется в памяти, выступает на более широком горизонте, в новых отношениях.
Первый том я закончил в 1905 году, при первых взрывах русской революции. Теперь, когда она достигла своих поворотных пунктов, я с особенным интересом обращаю взгляд воспоминания на далекий путь прошлого, «пыльный и туманный», на котором виднеется фигура «моего современника». Быть может, и читатель захочет взглянуть с некоторым участием на эту уже знакомую фигуру и при этом подумает, сколько было предчувствий у этого поколения, чья сознательная жизнь начиналась среди борьбы с ушедшим наконец строем, а заканчивается среди обломков этого строя, застилающих горизонт будущего. И сколько еще это будущее должно захватить из крушения старых ошибок и трудно искоренимых привычек!
Часть первая
Первые студенческие годы
I. В розовом тумане
Это настроение началось для меня еще в Ровно, в то утро, когда почталион подал мне пакет со штемпелем Технологического института, адресованный на мое имя. С бьющимся сердцем я вскрыл его и вынул печатный бланк с вписанной наверху моей фамилией. Директор Технологического института Ермаков извещал такого-то, что он принят на первый курс и обязан явиться к пятнадцатому августа.
Когда после этого я оглянулся кругом, то мне показалось, что за эти несколько минут прошли целые сутки: до прихода почталиона было вчера, теперь наступило новое сегодня. Я точно проспал ночь и проснулся не только другим, но немножко и в другом мире… Это ощущение исходило от плотной серой бумаги с печатным текстом и подписью Ермакова. И когда я несся после этого по улицам, то мне казалось, что и дома, и заборы, и встречные обыватели тоже смотрели на меня иначе. Ведь в самом деле и они в первый раз с сотворения мира видят… студента такого-то.
С «извещением» я не расставался несколько дней. Порой наедине я вынимал его и перечитывал каждый раз с новым удовольствием, точно это был не сухой официальный бланк, а поэма. И в самом деле - поэма: разрыв со старым миром, призыв к чему-то новому, желанному и светлому… Зовет «директор Ермаков». С этой фамилией связывалось в моем воображении что-то очень твердое, почти гранитное (вероятно, от сибирского Ермака) и вместе - недосягаемо возвышенное и умное. И этот Ермаков ждет меня к пятнадцатому августа. Я нужен ему для выполнения его высокого назначения…
Настроение было глупое, и я, конечно, сознавал, что оно глупо: самая подпись Ермакова была печатная. Такие извещения сам он даже не подписывает, а их сотнями рассылает канцелярия. Я знал это, но это знание не изменяло настроения. Знал я по-умному, а чувствовал по-глупому. В то самое время как я внушал себе эти трезвые истины, рот у меня невольно раскрывался до ушей. И я должен был отворачиваться, чтобы люди не видели этой идиотской улыбки и не угадали бы по ней, что меня зовет Ермаков, которому я лично необходим к пятнадцатому августа…
С юношеским эгоизмом, я как-то совсем не принимал участия в заботах матери о моем снаряжении. Она закладывала где-то свою пенсионную книжку, продавала какие-то вещи, просила, где могла, взаймы и, наконец, сколотила что-то около двухсот рублей. После этого происходили долгие совещания с портным Шимком.
Портной Шимко был небольшого роста коренастый еврей, с широким лицом, на котором тонкие губы и заостренный нос производили впечатление почти угрюмого комизма. Пока был жив отец, мы всегда смеялись над Шимком, изощряя свое остроумие над его наружностью и его предполагаемыми плутнями. Когда отец умер и мать осталась без средств, он явился к ней, критически обследовал состояние наших костюмов и сказал серьезно:
Ну, пора шить одну шинель и два мундира.
Ты знаешь, Шимко, что у меня теперь нет денег, и что еще будет, я не знаю, - грустно ответила мать.
Ну, - возразил Шимко, - у вас нет денег, но есть дети… Разве это не деньги?..
И он опять работал на нас, не заикаясь о сроках уплаты и никогда не торгуясь, как это бывало прежде.
Теперь он развернул свою деятельность у нас на квартире. Осведомившись, желаю ли я, чтобы он шил «по самой последней моде», и узнав, что последнюю моду я презираю, он даже крякнул от удовольствия и дал полную волю своей творческой фантазии. Он мочил и парил материалы, снимал мерки, кроил, примерял, шил, и наконец из его рук я вышел экипированным не особенно щеголевато, но зато дешево. Он сшил мне летний костюм из какой-то очень прочной и жесткой материи с желтыми миниатюрными букетцами по коричневому полю. Кроме того, он сшил еще пальто. Мне смутно казалось, что прочная материя с букетами дает идею скорее об обивке мебели, чем о костюме для столицы, а пальто походит на испанский плащ или альмавиву…
Но на этот счет я был неприхотлив и беззаботен. Оставив в стороне моду, я чувствовал себя одетым с иголочки, «довольно просто, но со вкусом».
Увы! впоследствии этот полет творческой фантазии честного Шимка доставил мне немало горьких и неприятных минут…
На каникулы приехал Сучков, уже год проживший в столице, и, конечно, я закидал его вопросами. Он почему-то был скуп на рассказы, но все же я узнал, что институт - это совсем не то, что гимназия, профессора нимало не похожи на учителей, а студенты - не гимназисты. Полная свобода… Никто не следит за посещением лекций… И есть среди студентов замечательные личности. Иного примешь за профессора. А какие споры! О каких предметах! Нужно много прочитать и подготовиться, чтобы только понять, о чем идет речь…
Вскользь и как бы мимоходом он сообщил мне, что остался по разным причинам на первом курсе, и, значит, мы опять будем идти вместе.
В середине этих каникул мне исполнилось восемнадцать лет, но мне казалось, что я далеко перерос окружающий меня мирок. Вот он весь тут, точно на плоской тарелке, волнующийся в пределах от тюрьмы до почты, знакомый, прозаический и постылый. В один из последних моих вечеров, когда я прощальным взглядом смотрел на гуляющую по шоссейной улице публику, - передо мной вдруг вынырнуло из сумерек лицо чиновника Михаловского, которого я считал когда-то «известным поэтом». В зубах у него была большая сигара, и ее огонек, вспыхнув, осветил удивительно неинтересное, плоское лицо, с выпуклыми, ничего не выражающими глазами. Как еще недавно этот человек казался мне окруженным поэтическим ореолом. И как много других казались высшими существами только потому, что они были взрослые, а я был мальчик. Теперь я вырос, а тесный мирок сузился и умалился… Прежние умники казались или глупыми, или слишком обыкновенными… Кого теперь поставить на высоту, перед кем или перед чём преклониться? Где здесь люди, которые знают и могут указать высшее в жизни, к чему стремится молодая душа?.. Кто из них хотя бы только думает об этом высшем, ищет его, тоскует, мечтает… Никто, никто!
Во мне сложилось заносчивое убеждение, что я едва ли не самый умный в этом городе. Мерка у меня была такая: я могу понять всех людей, мелькающих передо мною в этом потоке, колышущемся, как вода в тарелке, от шлагбаума до почты и обратно. Я знаю все, что они знают, из того, что нужно знать всякому. А они и не догадываются, какие мысли о них и какие мечты бродят в моей голове.
История моего современника
«История моего современника» "" - итоговое произведение Владимира Галактионовича Короленко.
По масштабности и эпичности описываемых событий «История моего современника» В. Г. Короленко может быть поставлена рядом с такими масштабными произведениями автобиографического жанра, как «Детство» и «Отрочество» Л. Н. Толстого, «Былое и думы» А. И. Герцена.
Синтез различных жанров в автобиографической прозе В. Г. Короленко, на наш взгляд, как нельзя вернее подтверждает ориентацию этого автора на большую эпическую форму и романное мышление.
В романе создается художественный образ творческой личности. Даже такие традиционные для биографического повествования способы создания образа героя, как биографический элемент, портретные характеристики, система лейтмотивов позволяют точно воссоздать образ героя, а психологические характеристики делают его убедительным, достоверным. Сложное взаимодействие творческой личности и среды автору удалось показать через биографический, культурно-исторический контекст.
Короленко в силу своего замысла стремился к возможно большей точности фактов: «Если бы я писал художественный очерк, то тема была бы очень благодарная. И даже теперь художник во мне подвергает искушению бытописателя. Так соблазнительно устранить случайные черты, слишком реальные, чтобы быть красивыми. Но я пишу только то, что видел сам и что испытал среди этих лесных людей. Поэтому буду рассказывать лишь так, как видел» (т. 7, с. 55-56).
Художественное время и художественное пространство - существенные формы создания образа героя. Основу сюжета составляет часть жизни героя - с раннего детства до его прибытия в Нижний Новгород. Чтобы донести до читателя, живущего в другом, нежели автор, времени, свою идею, Короленко воссоздает художественную панораму социальной, политической, литературной жизни России 1860-1880-х гг. XIX века.
Короленко-гражданин сформировался раньше, чем Короленко-писатель. Гражданская тема оказалась основной в его творчестве. Многое из своих исканий и переживаний Короленко отобразил в «Истории моего современника» (1905-1921, отд. изд. 1922). Все, что рассказано в этом незавершенном произведении, было, но многое писатель домысливает, чтобы ярче обрисовать подвижника идей 1870-1880-х годов. Как и следует ожидать от произведения с автобиографическими элементами, «История моего современника» построена на определенной хронологической последовательности, освещая основные вехи описываемого периода жизни автора: детство, гимназический, студенческий периоды, время вятской, якутской ссылки.
История создания
«История…» писалась Короленко на склоне лет, когда он уже имел возможность бросить ретроспективный взгляд на события прошлого и с большой трезвостью оценить их значение.
Роман создавался в тяжелые времена февральской, октябрьской революции, последующей ожесточенной гражданской войны. В произведении нет ни одного намека на жгучую современность и злободневность. Этим разрыв между прошлым народничеством и настоящим сильнее подчеркивается и делается еще ощутимее. Пропуская исторические события через призму собственного сознания, автор имеет полное право отдавать предпочтение одним событиям перед другими.
Идейное содержание
Автор добивается воплощения своей идеи, используя, как говорилось выше, синтетический, сложный, многосоставный жанр - автобиографический роман-воспоминание, что позволяет ему выражать свои мысли объемно как в событийном, так и во временном плане.Изображая события жизни своего «современника», В. Г. Короленко развертывает перед читателем панораму жизни общества 1860-1880-х годов XIX века, включающую событийный аспект (выдающиеся исторические события, происходившие в то время), общественно-политический аспект (изменение статуса многих людей, развитие общественного революционного движения), литературно-эстетический аспект (влияние литературы на людей и людей на литературу).
Короленко начинает повествование о себе с "младенчества ". Этот прием не противоречит канонам жанра и применяется автором для выявления истоков формирования своих личности, натуры, предрасположенностей. В. Г. Короленко описывает имевшие на него большое влияние художественные произведения (книгу «Фомка из Сандомира» Яна Грегоровича, историческую театральную пьесу «Урсула или Сигизмунд III»). Описывая процесс своего знакомства с этими произведениями, писатель, опираясь на реально происшедшие события и свои непосредственные впечатления, дает рассказ с элементами анализа, определяя принадлежность их к литературным течениям (книга - сентиментализм, пьеса - романтизм).Повествуя о годах, проведенных в уездной гимназии, В. Г. Короленко создает целую галерею образов учителей-автоматов, имевших непосредственный контакт с восприимчивыми детскими душами. Годы, проведенные здесь, где втайне от администрации распространялись революционно-демократические книги, сыграли огромную роль в формировании характера и мировоззрения писателя. Сознание В. Г. Короленко рано начало понимать несправедливость и «общественную неправду» жизни.
В 1871 году, по окончании реальной гимназии, Короленко уезжает в Петербург, чтобы поступить в Технологический институт. В 1870-х годах широкие круги учащейся молодежи и интеллигенции - в том числе и Владимир Галактионович Короленко - были захвачены и увлечены потоком революционного народничества.
Стремление личности к эмоционально предвосхищаемому универсальному идеалу указывает на романтическую струю в произведении, написанном, несомненно, в реалистических традициях. Постепенно герой понимает, что идеалом, направителем идей и дум молодого поколения не может и не должен стать человек с пустой душой и красивой оберткой на ней.
Перед нами широкая картина умственного брожения в среде "студенческой молодежи 1870-х - начала 1880-х годов ": писатель говорит о своих друзьях по Технологическому, Горному институтам в Петербурге или Петровской академии в Москве, о террористах И. Млодецком, А. Желябове, С. Степняке-Кравчинском, о Г. Лопатине. Однако Короленко не создает летописи идейных исканий: больший акцент сделан на общий эмоциональный тон их подвижнической деятельности, их служения народу, героизм и самопожертвование.
Короленко описывал жизнь ссыльных не понаслышке, а изнутри. В «Истории моего современника» описано пребывание писателя в девяти тюрьмах (Ярославской тюрьме, Спасской части и Литовском замке в Петербурге, Басманной части в Москве, Вышневолоцкой политической тюрьме, Томской, Тобольской, Красноярской и Иркутской тюрьмах) и пяти ссылках (в Кронштадте, Глазове, Березовских Починках, Перми, слободе Амге в Якутии).
Рассказывая о своих ссыльных скитаниях, писатель раскрывает перед нами особенности судопроизводительной машины России, ее составных частей.
"Ярославская тюрьма " была первой, где побывал Короленко. Писатель испытывает некоторое удивление от нахождения в этой тюрьме. Помещение его в дворянский привилегированный коридор, незапертые камеры, возможность посещать других арестантов, калачи и булки, оставшиеся после церковного праздника и принесенные для Короленко после обеда - все говорит об особом его положении.
Затем участь В. Г. Короленко была смягчена, чтобы отметить разницу между ним и бывшими офицерами Вернером и Григорьевым, как более ответственными, и вместо первоначального места ссылки он отправляется в "Кронштадт ". «Теперь вы свободны», - говорит ему адмирал. И действительно, ссылка в Кронштадте не наложила особенных ограничений на деятельность Владимира Галактионовича. Полицмейстер Головачев разрешает ему свободно передвигаться: «Ездите сколько угодно, только не попадите в какую-нибудь историю» (т. 6, 184). Он же устраивает его чертежником в минный офицерский класс. Короленко объясняет это назначение тем, что «тогда террор еще не разгорелся, химия и взрывчатые вещества не играли никакой роли в революции» (т. 6, 184). Время этой ссылки прошло незаметно, и через год, В. Г. Короленко был действительно свободен.
Второй арест, совершенный по подозрению в связи с убийством шефа жандармов Мезенцева, показывает Короленко, что они с братом «признаны уже бесповоротно „подозрительными“ и должны ожидать таких же неожиданностей по любому поводу» (т 6, 219). Далее не единожды он подтверждает эту мысль как особенность тогдашней российской власти: человек, попавший в немилость, никогда уже не будет полностью оправдан. Отголоски этой же мысли слышатся и в словах «красивого полицмейстера» в Тобольске: «Если вы опять попадете сюда, тогда уж кончено!.. Два раза таких чудес не бывает. Тогда, господин Короленко, прямо женитесь на сибирячке и обзаводитесь домком…» (т. 7, 167).
"В Спасскую часть " Короленко попал по подозрению в организации тайной типографии для печати нелегальных изданий. Здесь он знакомится с условной азбукой, с помощью которой заключенные переговаривались стуками в стенку камеры.
"В Литовском замке " В. Г. знакомится с людьми, в основном молодыми, арестованными без повода, по чьему-либо тайному доносу. «Это была действительно какая-то оргия доносов, сыска, обысков, арестов и высылок. Самодержавие переживало припадок бурного помешательства, и все русское общество „без различия званий и состояний“ было объявлено крамольным и поставлено вне закона» (т. 6, 249).Кроме того, В. Г. Короленко подмечена еще одна интересная особенность взятия под арест: если в тюрьме находился один человек, то все его знакомые, тем более родственники, были под подозрением. Он сам именно так попал под эту волну повальных арестов и подозрений (в основном потому, что уже был один раз арестован по политическим мотивам, а также потому, что все мужчины его семьи работали в типографской корректуре и теоретически могли, доставляя шрифты, способствовать деятельности нелегальной типографии).
Завершается четвертая часть второй книги аллегорическим сравнением: «…свистнул локомотив, и туманное пятно над Петербургом вскоре исчезло на горизонте» (т. 6, 253). Туманное пятно, несомненно, существовавшее в действительности из-за известной особенности климата Санкт-Петербурга, имеет и еще одно значение. Оно воплощает в себе недовольство В. Г. Короленко существовавшими в столице порядками.
Казалось бы, будучи оторванным от родных и друзей, высланным из обжитого города на край света, тем более не зная достоверно, куда и за что, молодой человек должен был впасть в жесточайшую депрессию. Но нет: "После Спасской одиночной тюрьмы и Литовского замка все казалось мне по дороге замечательным, все вызывало яркие и сильные впечатления. Из писем, представленных в приложениях к «Истории моего современника», следует, что В. Г. действительно воспринимал эту поездку как праздник. «Вы помните, что я мечтал о летнем путешествии, ну, вот хоть на привязи, а путешествую», − писал Короленко В. Н. Григорьеву от 31 мая 1879 г. из Вятки.
«Несмотря на исполнившиеся двадцать два года, я испытывал мальчишеское чувство гордости: в Басманной части мне объявили формально, что я высылаюсь „по высочайшему повелению“ в Усть-Сысольск, Вологодской губернии» (т. 6, с. 163). Первая ссылка не воспринимается писателем серьезно, отчасти из-за юного возраста, отчасти из-за новизны впечатлений, отчасти из-за быстрого и благополучного ее завершения. Другое дело - "Березовские Починки. " Уже по пути, пролегавшем через город Глазов, села Бисерово и Афанасьевское, писателем несколько раз подчеркивается заброшенность и дальность пункта назначения. Даже названия некоторых глав пятой части «На край света», «Леса, леса» говорят нам об этом. Короленко так говорит о Починках, селе Бисеровской волости: «Ни один губернатор никогда не бывал в этой волости, ни один исправник не бывал в селе Афанасьевском, ближайшем от Березовских Починков, а в самых Починках с самого сотворения мира не бывал даже ни один становой» (т. 6, с. 266). Место это характеризуется как то, откуда не возвращаются. Таким образом, ссылка в Починки была воспринята героем серьезнее, именно с нее начинается новый этап в его жизни. Всю третью книгу составляют пять частей, рассказывающих о тюрьмах и местах, по которым автор добирался до следующего места назначения.
Четвертая, незаконченная, книга целиком посвящена "якутской ссылке ".
Автобиографический роман-воспоминание «История моего современника», являющийся вершиной всего творчества писателя, представляет собой произведение сложного жанра.
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое "История моего современника" в других словарях:
История русской литературы для удобства обозрения основных явлений ее развития может быть разделена на три периода: I от первых памятников до татарского ига; II до конца XVII века; III до нашего времени. В действительности эти периоды резко не… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Село Бисерово Страна РоссияРоссия … Википедия
Короленко, Владимир Галактионович Запрос «Короленко» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Владимир Галактионович Короленко Дата рождения: 15 (27) июля 1853(18530727) … Википедия
- (1853 1921), писатель и публицист. Почетный академик Петербургской АН (1900 1902) и РАН (1918). В 1879 арестован по подозрению в связях с революционными деятелями; в 1881 84 в ссылке (Якутия). Редактор журнала «Русское богатство» (1895 1918).… … Энциклопедический словарь
Запрос «Короленко» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Владимир Галактионович Короленко Дата рождения: 15 (27) июля 1853(1853 07 27) Место рождени … Википедия
Короленко, Владимир Галактионович выдающийся писатель. Родился 15 июля 1853 года в Житомире. По отцу он старого казацкого рода, мать дочь польского помещика на Волыни. Отец его, занимавший должность уездного судьи в Житомире, Дубне, Ровне,… … Биографический словарь